Егерь в интерьере. Три новеллы: «Охотовед», «Егерь», «Жулик».
ОХОТОВЕД
Леха – охотовед. Крупный, мощный, вальяжный, образованный. Двадцать пять лет охраняет заказник. Часто менял работу, оставаясь на одном месте.
– Административная реформа, – посмеиваясь, говорит он. – Где только не поработал – и в ветеринарном надзоре, и в сельхозуправлении, сейчас вот – за Министерством природных ресурсов числюсь. На деле же ничего не изменилось. Как я браконьеров двадцать лет назад ловил, так и сейчас тягаю. Как учетами копытных занимался, так и сейчас делаю. Как собак стрелял, так и продолжаю стрелять.
К собакам у Алексея особое отношение. Вернее, это все считают, что особое, а он думает, что нормальное.
– В правилах охоты что сказано – уничтожать в угодьях безнадзорных собак. Раз собака без ошейника – она уже безнадзорная. А в природе нет у всякой дикой мелочи врага злее, чем собака. Она гнезда птичьи разоряет, зайчат ест, косуленка задавит запросто. Я как собаку вижу в заказнике непривязанную, сразу щелк – и она вверх лапками.
А что, прав формально.
Били ли Алексея за все годы его беспорочной службы?
Пытались, ага. Только Леха в прошлом – региональный чемпион по боксу в среднем весе. Бить его местные мужики, все сплошь спившиеся, обкуренные, помятые и покореженные, жертвы пьяных зачатий и самых распространенных в здешних краях народных промыслов, не рискуют меньше чем пятеро на одного.
И не справляются. Алексей – не местный, крепкий, как гриб-боровик, кость сибирская.
– Одному,другому, третьему – в соску, пару с плеч стряхну, на ноги встану и говорю: «Ну, что вы, хлюпики? Даже впятером не тянете?»
– А ломиком не пробовали?
– Они бы попробовали, – смеется Алексей. – Только не поднимают они ломика-то. Штакетину – ту поднимают. И не менее чем вдвоем. Однажды мне, правда, штакетиной заехали. – Он показывает белый шрам на толстом мускулистом загривке, всем своим видом давая понять, что ничего серьезного и в тот раз не произошло.
Алексей имеет репутацию охотоведа принципиального. Вообще-то он, как и многие его коллеги, оперативную работу начинал в студенческой дружине охраны природы. Некоторые преподаватели института рассматривали это как хорошую производственную практику – студенты учились писать протоколы, противостоять давлению начальства (охота же – это прежде всего спорт начальства, и едва ли не главное в этом спорте – доказать, что тебе можно больше, чем Семен Семенычу или Сергей Сергеичу, соседу или коллеге по партийному, заводскому или советскому креслу. А тут – на тебе, какая-то шпана пузатая начинает говорить мне! МНЕ! Что можно и чего нельзя!). Тут обе стороны шли на принцип. И студенты частенько выигрывали. Вот такая вот школа жизни была у будущих биологов-охотоведов.
Но все-таки, кажется мне, что не принципиальность и не «боление за природу» вели студентов в эти дружины. А нормальная для каждого мужика охотничья жилка, которая иногда заставляет людей по всему свету охотиться за себе подобными. Такие идут – кто в милицию, кто в армию. А кто – и в охотоведы. Видя смысл своей жизни в том, чтобы охотиться на людей. Чуть что, рраз! – в зубы.
Таких принято называть «волкодавами».
Вот и Леха из таких.
По протоколам рекорды ставил. Двести штук в год собирал. С милицией спокойно жил. Что, в общем-то, редкость для районного охотоведа. Начальство это ценило и нарадоваться не могло. Ну понятно, что милиция – браконьеры везде не из последних, но, видимо, он с ними других «брэков» винтит, которые помельче. Так что и то польза.
И вообще Леха со всеми мирно живет. Относительно, конечно, но мирно. Богатые барыги на джипах сюда заезжают, но редко. Причем с ними Алексей вполне дипломатично обходится, совершенно без юношеского максимализма. Остановит машину, поговорит, вроде пошутит, вроде припугнет, штраф за нарушение выпишет (но не на хозяина, а на водителя, или еще какого холуишку, который в охвостье тащится) – да и отпустит. Но при этом второй раз к нему уже не едут: понимают, что хоть и маленькая это неприятность – но неприятность. А зачем себе на отдыхе настроение портить, тайга-то вон какая…
Приглядевшись поближе, начинаешь понимать – весь Лехин заказник нарезан на мелкие наделы. В каждом ключе охотится какой-нибудь мужик из местных, имеющий на это Лехино молчаливое соизволение. Конечно, сам Леха, когда указываешь ему на этот факт, утверждает, что конкретно эти мужики «не хулиганят». Типа, берут столько, сколько им нужно. И эти же мужики сообщают Алексею о пришельцах, которые с собаками из других деревень приходят, приезжают из города на машинах, прибредают просто так – кабанчика вальнуть или косулешку.
Я согласно киваю. Хотя отлично понимаю, что выражение «берут, сколько им нужно» для охотника весьма зыбкое определение. Если охотник городской, то он «берет столько, сколько нужно» ему и его сельским приятелям, устраивающим ему охоту. Если речь идет об охотнике сельском, то в «нужное ему» входит нужное его семье, родственникам, родственникам родственников, знакомым родственников родственников и участковому милиционеру. По сути, деревенский охотник способен «переработать» любое количество дикого мяса. Даже не торгуя им.
Только самому Лехе мяса мужики не тянут. И я ему в этом верю. Алексей – очень хороший охотник. И мясо себе привык добывать сам.
Но вот как только появляются на горизонте «чужие сельские», как только дойдет до Лехи звоночек от специально назначенного мужика, тут уж охотовед мгновенно на месте – причем с милицией.
– Стоять, бояться! Руки за голову, мордой в землю!
Ну а что? По-своему порядок на территории наведен. Человек – животное территориальное. Вот это и есть – Лехина территория.
ЕГЕРЬ
Я стою возле высокого, в полтора человеческих роста, дощатого забора.
– Сейчас, сейчас, – приговаривает за забором мужской голос. Там привязывают собаку, отвинчивают хитрые запоры и наконец со скрипом отпирают калитку.
Голос предстает передо мной высоким, сухощавым седым человеком с жесткими чертами лица и добрыми серыми глазами.
– Так это ты, Миша? – растерянно говорит человек.
Вместо ответа я протягиваю ему книгу. Разворот книги занимает фотография. Подтянутый, уверенный в себе, фартовый мужик с карабином за спиной стоит на краю скалы над разноцветной Уссурийской осенней тайгой.
Человек растерянно качает головой, приобнимает меня и ведет в дом.
Мы пьем чай и вспоминаем.
Николай – егерь.
Вернее, был им. Когда-то он управлял довольно большим куском нашей планеты – заказником, в котором обитали тигры. Управлял неплохо, но не без эксцессов. Как любой егерь «от Бога», был он прежде всего охотником. Не важно, за людьми или за животными. (В принципе, «егерь» по-немецки «охотник» и значит…) Охотился он за браконьерами с азартом. Помню, как при мне тщательно проверял вроде бы случайно заехавший в тайгу трактор местного продвинутого агрария Семенчука. Сам Семенчук стоял возле своего трактора, курил Kent, косил лиловым глазом и вел себя довольно вызывающе. Да, дескать, нарушил закон, но плакат, указывающий на то, что эта территория является охраняемой, отсутствует, так что и состав преступления вроде отсутствует.
Николай же вяло доказывал, что незнание закона не освобождает от ответственности, а на самом деле тщательно обыскивал обочину дороги на протяжении сотни метров маршрута Семенчука – искал сброшенное с трактора оружие.
Надо сказать, что оружия тогда егерь так и не нашел, но и Семенчук стал озоровать куда осторожнее.
В другой раз Николай вместе с напарником выследил шалаш китайских браконьеров и ночью, когда его обитатели спали внутри, закидал его бутылками с горящим скипидаром. Сами китайцы убежали, а вещи их сгорели.
Я спросил тогда, почему Николай поступил именно так, а не задержал китайцев для последующей сдачи в милицию.
– Понимаешь, – сощурил он глаза, – милиция китайцев выпускает быстрее, чем ты их туда приводишь. И это не потому, что она сплошь этими китайцами купленная. Просто китаец для них – гражданин другой страны, и что с ним делать, они толком не знают. Но догадываются. Что поступи с этими гражданами как-нибудь не так – и неприятностей не оберешься. А тут – китайцы снаряжение свое, сети, спальники, посуду потеряли? Потеряли. Страху натерпелись? Натерпелись. Хрен его знает, что еще в этом месте могут выкинуть. Поэтому они к своим вернулись и других запугали. Не было больше китайцев в заказнике. По крайней мере, пока я там работал…
Помню, как Николай понемногу обустраивал быт зверушкам. Веники заготавливал на случай бескормицы. Дерево дуплистое отремонтировал для медведя. И по весне похвастался, что да, лег, дескать, белогрудка в эту отремонтированную берлогу… И вышел из нее благополучно.
Еще Коля знал всех кошек, живших на подведомственном участке.
– Два года назад тигрица здесь двух котят выкармливала. Вот под этим выворотнем. Обычно они в пещерах живут, а эта под деревом почему-то. Я как-то их сверху, с края плато наблюдал. Сама кошка лежит на взгорке, а тигрята так по снегу и катаются. Долго за ними наблюдал, место у меня было удачное, в бинокль издалека видать, так что кошек я и не вспугивал. Большой еще кот здесь ходит, вон тем хребтом, Абрикосовым, но у него обход широкий, наполовину у меня, а наполовину у соседнего егеря, Толика… Был и еще один тигр, молодой, но он год-другой ходил-ходил, а потом и перестал. Грохнули его где-то, на другой стороне шоссе. Я даже, думаю, знаю, кто… А тигра эта, с котятами которая, так их и вырастила, они до сих пор здесь – один ближе к границе, другой – южнее, наполовину в сельхозугодьях. Тоже обречен, наверное…
Тогда, лет семь назад, я попытался помочь Николаю. Нужен ему был четырехколесный вездеход для патрулирования в угодьях. И такой вездеход он сделал себе сам – на базе мотоцикла «Урал», двух мостов от «Москвича» и тракторных колес. Называлось это чудовище «каракатицей» и отличалось на редкость своеобразным нравом. Хотело – ездило, хотело – стояло. Природоохранный фонд при моем ходатайстве приобрел Николаю квадроцикл Honda. Однако его эта обнова отнюдь не обрадовала.
– Внимание на меня обращать стали, – сокрушенно сказал он. – Дескать, иностранцы у меня бывают, подарки богатые делают… Если нынешний начальник охотуправы уйдет, новый меня выгонит. Своего человека поставит, чтоб делился.
– Да кто тебя сменит? – наивно удивлялся я. – Территорию выучить так, как ты ее знаешь, не один год нужен. И даже не десять. Кто кроме тебя будет мишкам берлоги чинить?
– А им оно надо? – грустно усмехался Коля. – Им надо, чтобы делились…
Дороги наши с природоохранным фондом разошлись лет шесть назад. И почти одновременно я узнал, что старый начальник охотуправления уволен при реорганизации, а новый сократил Николая.
К тому времени я совершенно утратил влияние на события в природоохранной сфере, и мне оставалось только жалеть, что грустное предсказание Николая относительно его судьбы сбылось. Но для меня он остался образцовым егерем – знающим, инициативным и бескомпромиссным, потому в память о его службе я поместил его большой портрет в книге, посвященной крупным кошкам и их охране.
И долго не мог отдать ему эту книгу в руки. Ибо жил Николай довольно далеко от основной трассы, и никакой оказии посетить его у меня не случалось несколько лет. Телефон у него и в егерские-то времена работал через какой-то хитрый коммутатор, а после увольнения и вовсе перестал. Только иногда до меня доносились смутные слухи, что Николай еще жив и обитает на прежнем месте.
Там его и навестил в конце концов…
– Как меня уволили – обо мне сразу забыли. Приняли у меня карабин, автомобиль, квадроцикл, фотоаппарат – и все, как отрезало, не было никогда такого егеря Николая. Ни из фонда, ни с бывшей управы никто так никогда и не заехал. Ну, мне что, привыкать, что ли? Руки-ноги на месте, огород посадил. А дальше – люди помогли. Как ни странно. Тот же Семенчук. Помнишь?
Помню ли я браконьера Семенчука? Конечно, помню.
– Ведь ловил я его, плющил все время. А Семенчук – он не просто Семенчук. У него четыре тыщи гектаров в аренде, четыре трактора, коров полста. Подошел ко мне и говорит: «На тебе трактор и тыщу гектаров земли в обработку. Половину мне отдашь, половину сам продашь. Потому как помню я тебя, что ты человек ответственный».
Что ж, говорю: «Давай. Только будет у меня одна просьба. Знаю я, что ночами ты с фарой ездишь по полям, коз стреляешь. Можно, на той тыще га, которую ты мне отдал, охотиться не будешь?» Семенчук, конечно, пальцем у виска покрутил, но слово дал. И держит его до сих пор, что характерно. Так что кое-каких косуль я все-таки и помимо службы сберег.
Николай вздыхает.
– Я ж когда-то давно очень сильным охотником был. Когда на севере работал, на Бикине. Карабин за два сезона снашивал на добыче мяса. А потом перевелся сюда, и меня на другую охоту пригласили. На фазана. А что такое охота на фазана? Это идут по полю цепью несколько мужиков с дробовиками, фазаны взлетают, мужики стреляют. А фазан же как? Если его подранили, он в стерню забьется, глубоко-глубоко, и так и уползет. Это если без собак охотятся, конечно. Так две трети подранков и не находятся. Вот мы таким образом день отстреляли, я домой приехал – и заснуть не могу. Думаю, как там эти фазаны раненые в стерне сейчас. Прямо сердце схватило. И все – завязал я с охотой навсегда.
– Так на жизнь-то хватает? – осторожно спрашиваю я. – Огород, тыща га Семенчука…
– Ну, как сказать, – конфузится Николай. – Я еще водкой торгую. Магазина в селе у нас нет, народу надо в Тарасовку ехать, а я – вот он. Купил ящиков двадцать по пятьдесят, продаю по семьдесят. Вон, гляди, опять…
…
Здесь заканчивается та часть истории Николая, опубликованная в «РОГ» за 2009 год. Прошло время. Руководство заказника сменилось. Раз, и еще раз. Николай оказался нужен. И даже очень нужен. Зимовье его восстановили, вернули ему обход в том же, самом дальнем уголке тайги. И сегодня Коля стережет там своих оленей, косуль, кабанов и медведей, чинит мишкам берлоги, выкладывает солонцы. Буду в тех краях – обязательно заеду. У Коли все в порядке, я уверен.
ЖУЛИК
Никитич велик, вальяжен и радушен. Внешне он напоминает Тараса Бульбу из классического гоголевского описания – по крайней мере под ним, так же как конь Чорт под Тарасом, кряхтит и стонет новенькая «Нива».
Никитич – человек деловой. Дела у него некрупные, но зато их много. И сено скосить, и трактор наладить, и за грибами семью свозить, и лошадей (которых у Никитича штук десять) на новое пастбище перегнать.
Вообще хозяйство у Никитича большое. Не меньше трех десятков коров, пятьдесят гектаров пашенной земли, два трактора, куры, гуси, утки – кто ж их считал? Управляют всем этим скотным двором четверо-пятеро опустившихся ханыг, взятых Никитичем в плен в лесу. Сколько им Никитич платит, я не знаю. Но догадаться могу. Потому что едят они кашу из того же казана, что и многочисленные собаки хозяина, и из собачьих же алюминиевых мисок.
Но вообще Никитич всегда был при охране охотничьих угодий. На этом и богачество свое составил.
Для пополнения своего хозяйства Никитич пользуется всем. Но любимое слово в его лексиконе – «украсть». Он его и не стесняется-то особо.
– Вон, борона дисковая у Петрухи в огороде лежит. Как же я ее раньше не приметил? Ну да, бурьяном заросла. Надо ее всенепременно украсть. Нет, борона-то у меня есть, и даже три – оттуда же, откуда и у Петрухи, с коммунячьих времен. Но украсть все равно надо. Потому что если не я, то все равно наркоманы из Рощино утащат и на металлолом сдадут. А я ее к делу какому-нить приспособлю или сменяю на что.
И что характерно – украдет. Встретишь Никитича через неделю, спросишь: «Что, Никитич, украл борону-то?» «Украл», – радостно отвечает он, и даже подробно рассказывает, как.
Никитич судим. Как он утверждает – за недоразумение. И что это было за недоразумение – он тоже особо не скрывает. Однажды, находясь на охране угодий, конфисковал он понравившуюся ему чем-то фуру с дубовыми бревнами. «КАМАЗ» он хозяину, естественно, вернул, а вот лес продал. Указав предварительно в протоколе, что он был съеден жуками. Но тут черт Никитичу неудачно сворожил, поэтому из двух миллионов жителей Приморья он продал бревна напарнику того самого Федорчука, у которого он этот лес и забрал. Ну не знал он про этого напарника, что ж поделаешь? По федорчуковским же бумагам ему этот лес толкнул. У кого украл, тому и продал, понимаешь. Нехорошо получилось.
Но много Никитичу не дали, потому что заступились за него сильные люди.
С сильными людьми у Никитича все хорошо. Возит он их на свои заимки, которых у него штуки три по угодьям разбросаны. Заимки хорошие, чистые, сильные люди приезжают – Никитич туда повариху привезет, девок из города. Отдохнут сильные люди на заимке день-другой-третий, а Никитич остается. И от этих людей Никитичу остаются то снегоход, то подержанный автомобиль, то мотор лодочный, а то и три тонны бензина.
«Ну чего там – стрельнут они козу или оленя пятнистого краснокнижного, – ухмыляется Никитич. – Зато я на этой технике сколько по лесу проеду, сколько чужих выгоню? Ведь лучше я, чем они, правда, Миха?»
Показатели у Никитича по борьбе с браконьерами хорошие, не поспоришь. Никитич даже дважды шкуры тигриные у злодеев изымал – что по местным антибраконьерским делам считается высшим пилотажем. И платят фонды за изъятую тигриную шкуру по тысяче полновесных американских долларов. Только вот при осмотре выясняется, что если бы злодеи эти шкуры на рынке продавали – они б меньше штуки баксов за них получили. Шкуры все эти были от тигрят, причем летних. Неликвидные шкуры, значит. И злодеев этих никто кроме Никитича не видал – убегали они так, что лица со спины не упомнишь. При рассказе об этих тиграх что-то вспоминается мне пресловутый воз леса, проданный тому же, у кого он был украден…
– Все ж это наше, мое, то есть, – говорит Никитич, заглядывая собеседнику в глаза большими проникновенными серыми глазами. – Я за эту тайгу сызмальства душой болею. Она мне больше чем мать родная. Вот кедра, к примеру (здесь принято так говорить – «тигра», «кедра») – она ж сколько зверушек кормит? Как ее рубить-то? У кого рука поднимается? Или вот косуля – она ж как человек совсем. Ну, я понимаю – себе на мясо стрельнуть и то отворачиваешься, когда бьешь, чтобы глаз зверушечьих не видеть. А для удовольствия – ни-ни!
Всех этих слов Никитич понахватался от пожилых журналисток, которые вьются вокруг него, как мухи. Потому что егерь Никитич показательный – живет рядом с городом, ехать до него близко, контактный (всегда готов и для газеты, и для радио, и на камеру выступить).
Но без журналисток Никитич не скрывает, где и как охотится. Иногда интересные вещи рассказывает. А рассказчик Никитич прекрасный.
– Вопчем, еду я с потушенными фарами по насыпной дамбе. Люблю я это – с погашенными фарами ездить. Тихонько так, тихонько, а потом из окна фонарем светанешь по сторонам – глядишь, если где глаза загорятся, то прям под эти глаза и бубенишь с ружбайки. И вот крадусь я, значит, тихонечко, и вдруг понимаю – впереди еще одна машина идет. Стоп-сигналы мелькнули потому что. Ну, понятно, наш брат, охотник. Что, конечно, плохо – там, где наш брат проедет, даже Мамаю делать нечего. Надо, однако, взад сдавать. Я только остановился, как и тот, впереди, тоже остановился. Ночь не совсем чтобы лунная, так, в полдиска, но кой-чего видно. И гляжу я – мужики из машины труп вытаскивают. В целлофан затянутый, только ноги болтаются. Не закоченел, значит. И дырк его вниз с откоса!
Я потихоньку назад сдаю. Вдруг кто-то из них увидал, забегали, один вниз полез – труп доставать, значить, второй суетится, потом тоже вниз побежал. Потому что мертвяк тяжелый, его только под откос легко, а вверх трудно, однако.
А я тем временем назад сдаю – по насыпи, она узкая, а фары врубать нельзя. Во-первых, сам к сумеркам привык, мне без фар удобнее, а во-вторых, номера не подсвечиваются. По номерам-то тебя любой пробить может!
Так что я эти полтора километра по насыпи раком пролетел – даже и сообразить не успел. Подождал, пока все три тачки по шоссе пролетят, тогда только фары врубил – и вперед! До города добежал, там окраинами, огородами, на одну, другую, третью улицу…
Вроде оторвался – пока они там мертвяка вытаскивали, пока перепрятывали…
В общем, плохо бандитам из Уссурийска. Моря у бедненьких нет, вот и маются. А так – на куски порубил, в бочку с камнями сунул – и в трещину…
По-доброму говорит. С сочувствием к людям. К бандитам то есть.
Думаю, Тарас Бульба так же сказал бы…
Текст: Михаил Кречмар
источник: Русский Охотничий Журнал
http://www.huntandfish.ru/magazine/
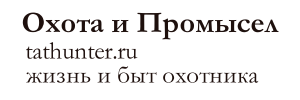







Комментировать
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.